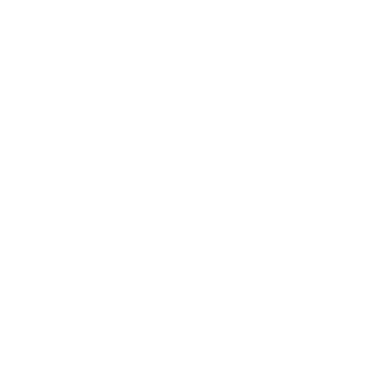В кульминационный момент нашей недельной главы Ки тиса Моисей разбивает Скрижали Завета, начертанные самим Господом и дарованные им на горе Синай. Сразу после этого он сжигает Золотого тельца, которого создали отчаявшиеся в ожидании своего пророка сыны Израиля и который и послужил причиной столь сильного гнева со стороны Моисея. В этих двух стихах, в которых Моисей приходит в неистовство (Шм / Исх 32:19-20), – наивысшая точка напряжения тонкого психологического повествования, деликатно и точно описывающего всю полноту и сложность эмоций, к которым приходит пророк через после долгих испытаний. Ведь впадает он в это состояние лишь тогда, когда увидел сотворенное своими глазами, ведь до этого, когда он еще был на горе Синай, Господь предупреждал Моисея о случившемся и грозился уничтожить народ Израиля, от чего Моисей его отговаривает, преисполненный, возможно, надежды, что все еще не так плохо, сострадающий своему народу и верящий в него. Но теперь он преисполнен не надежды, а отчаяния, не сострадания, но ярости, желания исправить сложившуюся ситуацию самым решительным, резким, реакционным способом. Моисей никогда не отрицал свою роль посредника, передатчика слов Господа народу Израиля, того, кто лишь фиксирует как письменно, так и устно священный текст, в котором — священный Завет и договор между двумя неравными сторонами. И тут, увидев, что принесенные им письмена оказываются никому не нужными, что абстрактной записи неких слов нашлась замена в виде якобы конкретного и понятного, осязаемого идола, — лишь увидев это, Моисей и разбивает Скрижали, тем самым будто разбивая не только камни с письменами, но и саму свою роль того самого посредника, который ловит и фиксирует окружающий его со всех сторон текст.
Нередко еврейские мыслители обращались к сравнению золотых херувимов, которые должны были украшать Ковчег Завета, с тем самым Золотым тельцом, которого делают себе сыны Израиля в нашей недельной главе, и так же нередко приходили к выводу, что сходств между ними не меньше, чем отличий. Однако в рамках именно недельной главы Ки тиса Золотой телец явно противопоставляется Скрижалям Завета, и в этом противопоставлении — извечное противостояние конкретного и абстрактного (или того, что таким кажется), осязаемого и мыслимого, яркого и как будто ожившего символа божества и серой и глухонемой каменной надписи. В этой связи вновь позволю себе обратиться к опыту древневосточной истории, а именно к процессу возникновения самого феномена письменности, которой мы обязаны не только Скрижалями и Священным Писанием в целом, но и глобальными изменениями в нашей ментальности, которые существенно отличают нас от человека дописьменной эпохи. Ведь письменность изначально возникает всего лишь из потребности считать — вести учет ресурсов, товаров, которые позволяют вам выжить в этом сложном мире. А письменности предшествовали маленькие фигурки, так называемые токены, за каждым из которых стояла одна конкретная единица одного конкретного товара. Например, нужно было человеку запомнить, что у него есть десять овец — и он делал десять одинаковых фигурок; каждая фигурка, осязаемая и понятная, — одна овечка. Однако непосредственно письменность возникла только тогда, когда человек понял, что ему не нужно делать каждый раз десять фигурок, когда он понял, что может просто нарисовать овечку и нанести десять насечек, не изображать каждый раз то, что он считает, но разделить исчисляемое от средств счета. И здесь наши конкретные и осязаемые фигурки вдруг становятся абстрактными и условными письменами, вдруг они начинают терять свой как будто реально существующий образ и становятся теми же серыми и немыми камнями. Но в контексте нашей недельной главы важно другое: по опыту истории мы видим, что стоит человеку лишь раз познакомиться с этой новой системой, лишь раз попробовать пользоваться абстрактным счетом, вместо конкретного, вернуться назад уже будет невозможно, и человек и его общество, сколь бы много или мало товаров у них ни было, будут обречены или, наоборот, осчастливлены этой новой технологией и новым способом мышления, который за ней приходит.
Но даже находясь в рамках этого противостояния якобы конкретного и якобы абстрактного, мы все равно, часто сами того не осознавая, остаемся в границах довлеющего дискурса, каждый из нас может думать, что он автор собственной жизни, но мы лишь бартовские скрипторы всемирного текста и носители Божественной воли. И все, что мы видим, все равно оказывается абстрактным, и тот же Телец, и те же Скрижали. В мире мелькающих образов, постоянно нас окружающих, нам так часто хочется конкретного счастья, которое можно потрогать, увидеть, заглянуть в его или ее красивые, глубокие и искренние в своей простоте и прямоте глаза. Но всякий раз мы сталкиваемся лишь с дискурсом, текстом, который нужно считать, интерпретировать, который — стоит его спросить о чем-либо — не может ничего ответить. И даже если взглянуть в зеркало, то там — все тот же текст, стоит и смотрит на тебя в полном недоумении. А мы продолжаем мечтать о золотых тельцах, тщетно надеясь, что сможем хотя бы сконструировать себе нечто понятное в этом мире. Израиль в нашей недельной главе не отказывается от абстрактного в пользу осязаемого — он все равно остается в том же мире, искаженном нашим и чужим восприятием через призму текста.
И именно этот текст Моисей разбивает, спустившись с горы Синай. Вернее, пытается разбить, отчаявшись и неожиданно для себя осознав, что переданный именно им текст оказался бесполезным. Но, после бури эмоций, возможно, он понимает, что таблички разбиты, а идеи, текст, дискурс остались. И он поднимается вновь на гору Синай, чтобы в этот раз не просто передать, но своей собственной рукой записать то, что он попытался уничтожить, чтобы приложить к этому самого себя, чтобы самостоятельно прожить и всецело принять всевластие Божественного текста.
Шаббат шалом,
Матвей Лопатин
Нередко еврейские мыслители обращались к сравнению золотых херувимов, которые должны были украшать Ковчег Завета, с тем самым Золотым тельцом, которого делают себе сыны Израиля в нашей недельной главе, и так же нередко приходили к выводу, что сходств между ними не меньше, чем отличий. Однако в рамках именно недельной главы Ки тиса Золотой телец явно противопоставляется Скрижалям Завета, и в этом противопоставлении — извечное противостояние конкретного и абстрактного (или того, что таким кажется), осязаемого и мыслимого, яркого и как будто ожившего символа божества и серой и глухонемой каменной надписи. В этой связи вновь позволю себе обратиться к опыту древневосточной истории, а именно к процессу возникновения самого феномена письменности, которой мы обязаны не только Скрижалями и Священным Писанием в целом, но и глобальными изменениями в нашей ментальности, которые существенно отличают нас от человека дописьменной эпохи. Ведь письменность изначально возникает всего лишь из потребности считать — вести учет ресурсов, товаров, которые позволяют вам выжить в этом сложном мире. А письменности предшествовали маленькие фигурки, так называемые токены, за каждым из которых стояла одна конкретная единица одного конкретного товара. Например, нужно было человеку запомнить, что у него есть десять овец — и он делал десять одинаковых фигурок; каждая фигурка, осязаемая и понятная, — одна овечка. Однако непосредственно письменность возникла только тогда, когда человек понял, что ему не нужно делать каждый раз десять фигурок, когда он понял, что может просто нарисовать овечку и нанести десять насечек, не изображать каждый раз то, что он считает, но разделить исчисляемое от средств счета. И здесь наши конкретные и осязаемые фигурки вдруг становятся абстрактными и условными письменами, вдруг они начинают терять свой как будто реально существующий образ и становятся теми же серыми и немыми камнями. Но в контексте нашей недельной главы важно другое: по опыту истории мы видим, что стоит человеку лишь раз познакомиться с этой новой системой, лишь раз попробовать пользоваться абстрактным счетом, вместо конкретного, вернуться назад уже будет невозможно, и человек и его общество, сколь бы много или мало товаров у них ни было, будут обречены или, наоборот, осчастливлены этой новой технологией и новым способом мышления, который за ней приходит.
Но даже находясь в рамках этого противостояния якобы конкретного и якобы абстрактного, мы все равно, часто сами того не осознавая, остаемся в границах довлеющего дискурса, каждый из нас может думать, что он автор собственной жизни, но мы лишь бартовские скрипторы всемирного текста и носители Божественной воли. И все, что мы видим, все равно оказывается абстрактным, и тот же Телец, и те же Скрижали. В мире мелькающих образов, постоянно нас окружающих, нам так часто хочется конкретного счастья, которое можно потрогать, увидеть, заглянуть в его или ее красивые, глубокие и искренние в своей простоте и прямоте глаза. Но всякий раз мы сталкиваемся лишь с дискурсом, текстом, который нужно считать, интерпретировать, который — стоит его спросить о чем-либо — не может ничего ответить. И даже если взглянуть в зеркало, то там — все тот же текст, стоит и смотрит на тебя в полном недоумении. А мы продолжаем мечтать о золотых тельцах, тщетно надеясь, что сможем хотя бы сконструировать себе нечто понятное в этом мире. Израиль в нашей недельной главе не отказывается от абстрактного в пользу осязаемого — он все равно остается в том же мире, искаженном нашим и чужим восприятием через призму текста.
И именно этот текст Моисей разбивает, спустившись с горы Синай. Вернее, пытается разбить, отчаявшись и неожиданно для себя осознав, что переданный именно им текст оказался бесполезным. Но, после бури эмоций, возможно, он понимает, что таблички разбиты, а идеи, текст, дискурс остались. И он поднимается вновь на гору Синай, чтобы в этот раз не просто передать, но своей собственной рукой записать то, что он попытался уничтожить, чтобы приложить к этому самого себя, чтобы самостоятельно прожить и всецело принять всевластие Божественного текста.
Шаббат шалом,
Матвей Лопатин