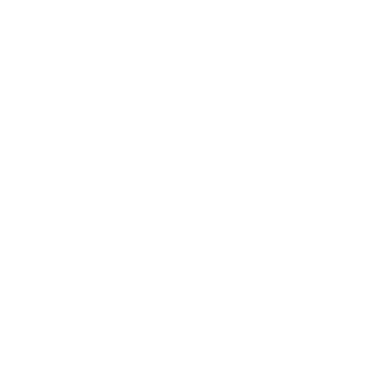Недельная глава Итро содержит один из важнейших отрывков Торы и вместе с тем чуть ли не самый значимый текст внутри и даже вне иудаизма, а именно первое перечисление Десяти заповедей. Господь впервые напрямую является не какому-то конкретному человеку, но целому народу, которому после такого события уготовано быть главным «сокровищем» или «достоянием» Бога (сегулла), быть «царством священников» и «народом святым». Тем не менее, начало нашей недельной главы посвящено совершенно иной истории, по имени главного героя которой, тестя Моше Итро, и названа недельная глава. Этот сюжет затрагивает вопросы власти, но не Божественной, а исключительно светской: Моше решает всякий судебный спор внутри народа в одиночку и тратит на это большое количество сил и времени, и Итро, пришелец из Мидьяна, чтящий и боящийся единого Бога, увидев такое положение дел, советует Моше назначить старших и младших судей, организовать иерархию внутри огромного сообщества и облегчить тем самым жизнь себе и своему народу. Моше охотно слушается совета своего тестя, и лишь после этого народ оказывается готовым к прямому контакту с Господом и к началу принятия на себя нового договора и новых заповедей.
Казалось бы, этот не самый значимый и даже «приземленный» сюжет предшествует и, в каком-то смысле, обуславливает одно из важнейших событий в истории еврейского народа. Однако эти две истории внутри одной недельной главы можно было бы рассматривать как два тесно взаимосвязанных сюжета, один из которых не возможен без другого, ведь каждый из них отражает как будто две стороны одной медали — светской власти внутри народа в противовес власти Божественной, общественный договор в противоположность завету с Господом. С другой стороны, эти два сюжета повествуют и о различного типа вмешательствах — вмешательство Итро, человека почтенного и мудрого, но все же человека, вмешательство, отражающее своего рода горизонтальные связи, и вмешательство (явление) Бога, прямая и непоколебимая связь вертикальная. На эти различающиеся вмешательства — разные реакции со стороны Моше и его народа: в то время как слова Итро Моше «услышал» и лишь затем «исполнил», указания Господа народ «сделает и услышит» (наасе венишма), о чем будет сказано в следующей недельной главе.
И между этих двух «вмешательств», «земным» вмешательством Итро и «небесным» вмешательством Бога, находится символ чего-то среднего, вернее сказать, усредняющего — гора Синай. Гора как место пребывания того или иного божества является распространенным образом в религиозных представлениях самых разных народов, в особенности в культурах древнего Ближнего Востока и Средиземноморья. Однако позднейшая традиция комментирования Торы, невольно или намеренно, выделяет гору Синай на фоне всех других «священных» возвышенности в соседних культурах. И особенной эту гору делает не ее особенная высота или красота, какое-то несказанное величие или мощь, но ровным счетом наоборот: как сообщает Талмуд (Сота 5а) и различные мидраши, Господь выбирает гору Синай для своего откровения, потому что она совсем не велика и вместе с тем скромна, подобно самому Моше. И, продолжая эту трактовку, можно было бы сказать, что в своей «скромности» эта гора не является такой уж «неземной», взгляд с нее нельзя назвать взглядом «с небес», хотя и обычной земле она не равна. Таким образом, возможно, в горе Синай и заключается тот самый символ, объединяющий и соединяющий сюжет с советом Итро и историю дарования Десяти заповедей, усредняющий и приносящий гармонию между сугубо «небесным» и сугубо «земным».
Другие мидраши, однако, прямым текстом разграничивают сферу Божественного и сферу земного, человеческого, оставляя именно человеку права распоряжаться установлениями, данными свыше, в реалиях земных. Один из известнейших талмудических рассказов (Бава Мециа 59б) излагает спор, возникший между рабби Элиэзером и другими мудрецами относительно одного галахического решения. Мудрецы никак не могут принять позицию Элиэзера, который в итоге пытается доказать свою правоту посредством чудес, которые он совершает с деревом и потоком воды, обратившимся вспять. В конце концов сам голос с небес заявляет о правоте Элиэзера, и, казалось бы, спор таким образом должен был окончен, однако затем встает рабби Иегошуа и, цитируя книгу Дварим, восклицает: «Не на небе она!», оставив тем самым за земными мудрецами право окончательно толковать небесные решения.
Тем не менее, решение этого спора не обязательно лежит в ответе рабби Иегошуа, как и не обязательно в суждениях рабби Элиэзера, но в самом споре, в самой попытке взглянуть на ситуацию как «сверху», так и «сбоку». И, возможно, сюжет об Итро и история Богоявления на горе Синай как раз иллюстрирует это положение: на еврейский народ обращены взгляды как с небес, так и с земли, и подобными взглядами мы должны стремиться смотреть на себя сами, и только тогда тот или иной народ оказывается достойным Десяти заповедей, достойным быть названным «народом святым» и «сокровищем» Господа.
Шаббат шалом,
Матвей Лопатин
Казалось бы, этот не самый значимый и даже «приземленный» сюжет предшествует и, в каком-то смысле, обуславливает одно из важнейших событий в истории еврейского народа. Однако эти две истории внутри одной недельной главы можно было бы рассматривать как два тесно взаимосвязанных сюжета, один из которых не возможен без другого, ведь каждый из них отражает как будто две стороны одной медали — светской власти внутри народа в противовес власти Божественной, общественный договор в противоположность завету с Господом. С другой стороны, эти два сюжета повествуют и о различного типа вмешательствах — вмешательство Итро, человека почтенного и мудрого, но все же человека, вмешательство, отражающее своего рода горизонтальные связи, и вмешательство (явление) Бога, прямая и непоколебимая связь вертикальная. На эти различающиеся вмешательства — разные реакции со стороны Моше и его народа: в то время как слова Итро Моше «услышал» и лишь затем «исполнил», указания Господа народ «сделает и услышит» (наасе венишма), о чем будет сказано в следующей недельной главе.
И между этих двух «вмешательств», «земным» вмешательством Итро и «небесным» вмешательством Бога, находится символ чего-то среднего, вернее сказать, усредняющего — гора Синай. Гора как место пребывания того или иного божества является распространенным образом в религиозных представлениях самых разных народов, в особенности в культурах древнего Ближнего Востока и Средиземноморья. Однако позднейшая традиция комментирования Торы, невольно или намеренно, выделяет гору Синай на фоне всех других «священных» возвышенности в соседних культурах. И особенной эту гору делает не ее особенная высота или красота, какое-то несказанное величие или мощь, но ровным счетом наоборот: как сообщает Талмуд (Сота 5а) и различные мидраши, Господь выбирает гору Синай для своего откровения, потому что она совсем не велика и вместе с тем скромна, подобно самому Моше. И, продолжая эту трактовку, можно было бы сказать, что в своей «скромности» эта гора не является такой уж «неземной», взгляд с нее нельзя назвать взглядом «с небес», хотя и обычной земле она не равна. Таким образом, возможно, в горе Синай и заключается тот самый символ, объединяющий и соединяющий сюжет с советом Итро и историю дарования Десяти заповедей, усредняющий и приносящий гармонию между сугубо «небесным» и сугубо «земным».
Другие мидраши, однако, прямым текстом разграничивают сферу Божественного и сферу земного, человеческого, оставляя именно человеку права распоряжаться установлениями, данными свыше, в реалиях земных. Один из известнейших талмудических рассказов (Бава Мециа 59б) излагает спор, возникший между рабби Элиэзером и другими мудрецами относительно одного галахического решения. Мудрецы никак не могут принять позицию Элиэзера, который в итоге пытается доказать свою правоту посредством чудес, которые он совершает с деревом и потоком воды, обратившимся вспять. В конце концов сам голос с небес заявляет о правоте Элиэзера, и, казалось бы, спор таким образом должен был окончен, однако затем встает рабби Иегошуа и, цитируя книгу Дварим, восклицает: «Не на небе она!», оставив тем самым за земными мудрецами право окончательно толковать небесные решения.
Тем не менее, решение этого спора не обязательно лежит в ответе рабби Иегошуа, как и не обязательно в суждениях рабби Элиэзера, но в самом споре, в самой попытке взглянуть на ситуацию как «сверху», так и «сбоку». И, возможно, сюжет об Итро и история Богоявления на горе Синай как раз иллюстрирует это положение: на еврейский народ обращены взгляды как с небес, так и с земли, и подобными взглядами мы должны стремиться смотреть на себя сами, и только тогда тот или иной народ оказывается достойным Десяти заповедей, достойным быть названным «народом святым» и «сокровищем» Господа.
Шаббат шалом,
Матвей Лопатин